Послание римлянам. Желание Павла посетить Рим. Понедельник. Все согрешили
Библейские тексты для исследования:
Рим. 14–16.
Памятный стих:
«А ты что́ осуждаешь брата твоего? Или и ты, что́ унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов» (Рим. 14:10).
Вот и последний урок нашего изучения Послания к римлянам - книги, из которой родилась протестантская Реформация; книги, которая лучше других объясняет нам, почему мы - протестанты и почему нам стоит ими оставаться. Как протестанты и адвентисты седьмого дня мы исповедуем принцип Sola Scriptura - «Только Писание!». Именно из Библии мы узнали ту же истину, которая несколько веков назад побудила наших духовных прародителей порвать с Римом, - великую истину о спасении по вере, убедительно изложенную в послании Павла к римлянам.
Возможно, все узнанное можно резюмировать вопросом языческого тюремщика: «Что мне делать, чтобы спастись?» (Деян. 16:30). В Послании к римлянам нам дан ответ на этот вопрос, и он кардинально отличается от того, что дала церковь во времена Лютера. Поэтому началась Реформация, и поэтому мы - протестанты.
В последнем разделе послания Павел касается ряда вопросов; и пусть они не столь значимы, как основная тема, они заслужили того, чтобы войти в послание. Поэтому мы относимся к ним как к Священному Писанию.
Как завершает Павел свое послание, какие истины содержатся здесь для нас, наследников не только Павла, но и протестантской Реформации?
В Рим. 14:1–3 рассматривается вопрос употребления в пищу мяса животных, принесенных в жертву идолам. Иерусалимский собор (см. Деян. 15) постановил, что обращенные язычники должны воздерживаться от употребления в пищу таких продуктов. Но мясо, продаваемое на общественных рынках, вполне могло оказаться мясом животных, принесенных в жертву идолам, и именно этот вопрос вызывал затруднения (см. 1 Кор. 10:25). Некоторых христиан это совсем не заботило; другие, дабы не мучиться сомнениями, решили есть одни овощи. Речь вообще не шла о вегетарианстве или здоровом образе жизни. Также Павел не хотел сказать этими стихами, что различие между чистой и нечистой пищей упразднено. Это даже не обсуждалось. Истолковывать слова «можно есть все» (Рим. 14:2) как позволение употреблять в пищу мясо любых животных, чистых или нечистых, ошибочно. Сопоставление этого фрагмента с другими отрывками Нового Завета указывает на ошибочность подобного вывода.
В то же время «принять» немощного в вере означает принять его как полноправного члена церкви. Не нужно с ним яростно спорить, но следует оставить ему право на свое мнение.
Какой принцип нам следует усвоить из Рим. 14:1–3?
Важно понять, что в Рим. 14:3 Павел не отзывается негативно о «немощном в вере» человеке из Рим. 14:1. Он также не советует этому человеку, как стать сильнее. До тех пор, пока человек искренне исполняет волю Бога, пусть даже, на наш взгляд, чересчур усердно, он принят. «Бог принял его».
Как эта мысль раскрывается в Рим. 14:4?
Хотя мы должны держать в уме принципы, рассмотренные в сегодняшнем уроке, в каких ситуациях мы должны вмешаться и осудить - если не мотивы человека, то, по крайней мере, его действия? Или мы должны отступить, ничего не говорить и не предпринимать в любой ситуации? Ис. 56:10 так описывает сторожей: «Все они немые псы, не могущие лаять». Как узнать, когда следует говорить, а когда молчать?
Прочитайте Рим. 14:10. Какие доводы приводит здесь Павел, советуя нам быть осторожными, оценивая других?
Иногда мы склонны жестоко судить других за то, что позволяем себе. Наши собственные поступки не кажутся нам столь ужасными, как аналогичные поступки других людей. Своим лицемерием мы, возможно, обманем себя, но не Бога, Который предупредил нас: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: “дай, я выну сучок из глаза твоего“, а вот, в твоем глазе бревно?» (Мф. 7:1–4).
Какое значение имеет высказывание из Ветхого Завета, приведенное здесь Павлом? Рим. 14:11.
Цитата из Ис. 45:23 подтверждает: все должны явиться на суд. «Всякое колено» и «всякий язык» показывает, что суд касается каждого лично. Смысл заключается в том, что каждый из нас должен будет ответить за свою собственную жизнь и поступки (см. Рим. 14:12). Никто не может ответить за другого. В этом смысле мы не стражи нашим собратьям.
С учетом сказанного выше как вы понимаете слова Павла в Рим. 14:14?
Здесь все еще говорится об идоложертвенной пище. Вопрос определенно не касается различия между чистой и нечистой пищей. Павел говорит, что нет ничего плохого в употреблении продуктов, которые могли быть посвящены идолам. В конце концов, что такое идол? Ничто! (См. 1 Кор. 8:4.) Кого волнует, что какой-то язычник приносил продукты в жертву статуе лягушки или быка?
Нельзя заставлять человека идти против своей совести, даже если его совесть чрезмерно чувствительна. Этого «сильные» братья, по-видимому, не понимали. Они презирали щепетильность «слабых» собратьев и строили преграды на их пути.
Не находитесь ли вы в своей ревности по Господу в той же опасности, о которой предупреждает здесь Павел? Почему нужно быть осторожными в своем стремлении быть совестью других людей, какими бы благими ни были наши намерения?
Прочитайте Рим. 14:15–23 (см. также 1 Кор. 8:12, 13). Обобщите ниже суть того, о чем говорит Павел. Какой принцип можно извлечь из этого отрывка, который применим во всех областях нашей жизни?
В Рим. 14:17–20 Павел показывает в правильном ключе различные аспекты христианства. Хотя вопрос питания важен, христиане не должны ссориться из-за того, что некоторые люди едят овощи вместо мяса, которое могло быть посвящено идолам. Вместо этого они должны сосредоточиться на праведности, мире и радости во Святом Духе. Как мы можем применить эту идею к вопросам питания в наше время в нашей церкви? Хотя весть о здоровом образе жизни и особенно учение о правильном питании может быть благословением для нас, не каждый рассматривает эту тему одинаково, и мы должны уважать эти различия.
В Рим. 14:22 в контексте разговора о том, что необходимо позволить людям руководствоваться собственной совестью, Павел высказывает интересную мысль: «Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». О чем здесь предупреждает Павел? Как это проясняет его позицию?
Приходилось ли вам слышать такие слова: «Никого не касается, что я ем, какую одежду ношу и каким образом развлекаюсь!». Так ли это? Никто из нас не живет в вакууме. Наши действия, слова, поступки и даже привычки в питании оказывают на других людей доброе или худое влияние. Мы обманываем себя, если думаем иначе. Как христиане мы ответственны друг за друга, и если наш пример вводит кого-то в заблуждение, виноваты в этом мы.
Какой пример вы показываете? Будете ли вы чувствовать себя комфортно, если другие люди, особенно молодежь или новообращенные, последуют вашему примеру во всех сферах? Что ваш ответ говорит о вас?
Давая совет не судить других людей, которые могут иметь отличную от нашей точку зрения, и предостерегая от того, чтобы стать камнем преткновения для тех, кого могут оскорбить наши действия, Павел упоминает об особенных днях, которые кто-то хочет соблюдать, а кто-то нет.
Прочитайте Рим. 14:4–10. Как следует понимать сказанное Павлом? Имеет ли это отношение к четвертой заповеди? Если нет, то почему?
О каких днях говорит Павел? Был ли в ранней церкви спор о соблюдении или несоблюдении определенных дней? Очевидно, был. Об этом споре упоминается в Гал. 4:9, 10, где Павел порицает галатийских христиан за то, что они «наблюдают дни, месяцы, времена и годы». Как уже отмечалось в уроке 2, некоторые люди в церкви убедили галатийских христиан принять обрезание и соблюдать другие предписания Моисеева закона. Павел опасался, что эти идеи могут также нанести вред и римской церкви. Но, возможно, в Риме именно еврейским христианам было сложно переубедить себя, что больше нет нужды соблюдать еврейские праздники. Здесь Павел говорит: поступайте в этом вопросе так, как сочтете нужным; главное - не судите тех, кто имеет иную точку зрения. Очевидно, некоторые христиане на всякий случай решили соблюдать один или несколько еврейских праздников. Павел дает совет: пусть соблюдают, если убеждены в том, что это правильно.
Некоторые безосновательно полагают, что в Рим. 14:5 подразумевается и еженедельная суббота. Можно ли представить, что Павел имел столь бесцеремонное отношение к четвертой заповеди? Как мы уже видели на протяжении квартала, Павел подчеркивал важность послушания закону и уж точно не поместил бы заповедь о субботе в ту же категорию, что и вопрос об идоложертвенной пище. Эти тексты часто используются с целью доказать, что соблюдать седьмой день уже необязательно, но ничего подобного в них не говорится. Тот факт, что их используют таким образом, доказывает правоту слов Петра о посланиях Павла: «Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания» (2 Петр. 3:16).
Является ли субботний день для вас благословением, каким он был задуман? Что вы можете изменить для того, чтобы в полной мере испытать благословения этого дня?
Прочитайте Рим. 15:1–3. Какая важная христианская истина содержится в этом отрывке?
Что значит быть последователем Иисуса, согласно этому отрывку?
Какие другие библейские стихи говорят о том же самом? Как вы можете жить в соответствии с этим принципом?
Заканчивая свое послание, какого рода благословения произносит Павел? См. Рим. 15:5, 6, 13, 33.
Бог терпения - Бог, Который помогает Своим детям все стойко переносить. Слово «терпение» (греч. hupomone ) означает «силу духа», «непоколебимую выносливость». Бог утешения ободряет нас. Бог надежды дает человечеству бесценное упование. В Боге мира мы находим совершенный покой.
После многочисленных личных приветствий как Павел завершает свое послание? См. Рим. 16:25–27 (ИПБ); в Синодальном переводе - Рим. 14:24–26.
Павел заканчивает свое письмо, воздавая славу Богу. Римские христиане и все остальные могут смело верить, что являются искупленными сыновьями и дочерьми Бога, оправданными верою и водимыми Духом Божьим.
Мы знаем, что Павел был вдохновлен Господом, чтобы написать это послание в ответ на конкретную ситуацию в определенный момент времени. Но мы не знаем всех подробностей относительно того, что Господь открыл Павлу о будущем.
Да, Павел знал о грядущем «отступлении» (см. 2 Фес. 2:3), хотя этот текст не говорит, как много он знал. Нам неизвестно, предвидел ли Павел ту роль, которую его произведения и особенно Послание к римлянам сыграют при завершающих событиях истории. Важно то, что из этих текстов родился протестантизм, и те, кто стремится оставаться верными Иисусу, будут иметь библейское основание для своей веры и посвященности, даже когда мир будет обольщен зверем (см. Откр. 13:3).
Прочитайте из книги Э. Уайт «Свидетельства для Церкви», т. 5, главы «Единство и любовь в Церкви», с. 477–478, «Любовь к заблудшим», с. 604–606; из книги «Служение исцеления» - главу «Спасенные в надежде», с. 166; Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 719.
«Мне было показано, что детям Божьим угрожает опасность во всем полагаться только на брата и сестру Уайт, постоянно ездить к ним со своими проблемами и спрашивать у них совета. Такого не должно быть. Сострадательный, любящий Спаситель приглашает прийти к Нему всех труждающихся и обремененных, чтобы Он облегчил их страдания… Многие обращаются к нам с вопросом, нужно ли делать то или иное? Принять ли участие в данном предприятии? Или спрашивают относительно одежды, следует ли им носить это платье или какой-то другой предмет туалета? Я отвечаю им: вы называете себя учениками Христа, так изучайте Библию! Внимательно и с молитвой читайте о земной жизни нашего дорогого Спасителя, подражайте Ему во всем, и тогда вы не уклонитесь с узкого пути. Мы решительно отказываемся быть вашей совестью. Если мы скажем вам, как нужно поступать, вы будете идти к нам за руководством вместо того, чтобы прямо и непосредственно обращаться к Иисусу» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 118, 119).
«Мы не должны перекладывать нашу ответственность на других и ожидать от них указаний. Не следует полагаться на советы людей. Господь так же охотно научит и нас исполнять свой долг, как Он учит этому других… Люди, решившие не совершать неугодного Богу, после общения с Ним будут знать, каким путем идти» (Э. Уайт. Желание веков, с. 668).
«В церкви всегда были люди, склонные к личной независимости. Им трудно понять, что это развивает в человеке чрезмерную самоуверенность, упование на собственные суждения и неуважение к советам других братьев» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 163, 164).
Вопросы для обсуждения:
Принимая во внимание некоторые темы этой недели, как мы, христиане, можем: (а) быть верными тому, во что мы верим, не осуждая при этом тех, кто имеет иную точку зрения; (б) поступая по собственной совести и не стремясь быть совестью для других, помогать тем, кто, по нашему мнению, ошибается; (в) быть свободными в Господе и в то же время осознавать свою ответственность за тех, кто может равняться на нас?
Мы продолжаем наше изучение основный тем Послания апостола Павла к Римлянам. В 8 главе мы рассмотрели очень непростую тему предопределения в его отношении к Божественному всеведению. Мы посмотрели на так называемую «золотую цепочку» - ряд, начинающийся с совершенного знания Богом Своих людей, переходящий к их предопределению уподобиться образу Христа, их призванию и прославлению. Главное же, что хочет сказать этим Павел - что спасение происходит «по воле Божией», что Сам Бог осуществляет наше спасение. И апостол говорит это для того, чтобы укрепить и успокоить нас, прежде всего во время страданий и боли. Но наверное, нет более спорного места во всех посланиях Павла, чем 9 глава Послания к Римлянам, в которой он развивает тему избрания Богом людей.
Я часто цитирую слова шведского теолога доктора Роджера Николе, который однажды заметил, что «все мы своей по природе пелагиане» и что самая трудная задача для христианина - отказаться от потребности увидеть свой вклад в дело собственного спасения и утвердиться в понимании того, что в конечном счете наше искупление осуществляется только Богом. Мы всеми силами противимся этому, и оправдываемся, и протестуем, стараясь найти хоть что-то в себе, что заставило бы Бога искупить нас. И я знаю, и говорил об этом неоднократно, что проповедуя доктрину избрания вот уже более 30 лет, я расплачиваюсь за первые пять лет своей христианской жизни, в течение которых я выступал яростным противником этого учения, до тех пор пока не понял, что не могу убрать его из Писания. И текстом, который окончательно убедил меня в правильности доктрины избрания, стала 9 глава Послания к Римлянам. Я понял, что никак не могу обойти это место.
Но давайте посмотрим на начало этой главы. Мне кажется, что оно очень сильное. 9 глава начинается совершенно необычно. Павел открывает новый раздел послания произнесением торжественной клятвы. Он клянется в истинности того, что хочет сказать. И основанием этой клятвы служат его страдания за тех людей, которые не были спасены, за тех людей, кто были лишены плодов оправдания. Послушайте, что он говорит. Глава 9, стих первый: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования; их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь».
Иногда люди отвергают доктрину избрания, потому что она кажется им выражением человеческой гордости . Я прекрасно знаю, что есть люди, которые всем своим видом говорят: «Посмотрите на меня. Я избран . Во мне, наверняка, есть что-то особенное, если Бог от создания мира избрал именно меня». Но тогда основанием для хвастовства и для гордости опять же служит уверенность, что Бог выбрал именно меня потому, что увидел во мне нечто, чего нет у других, и это дает мне право хвалиться собой и своей избранностью.
Но Павел решительно осуждает такое отношение к неверующим людям, когда я смотрю на них и думаю: «Вот кем бы я был, если бы не мои заслуги», - вместо того, чтобы думать: «Вот кем бы я был, если бы не благодать Божия». Павел показывает здесь, что его собственное отношение к людям, которые не пришли к вере, это не отношение высокомерия и гордости - Павел чувствует только сострадание и боль за таких людей, в данном случае за его соотечественников израильтян.
Данной клятвой он хочет подчеркнуть всю серьезность своих слов: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Мне кажется, что таким должно быть отношение любого верующего человека. Павел говорит, что он готов пожертвовать собственным спасением, если это принесет спасение погибшим. Конечно, Павел знает, что он не может сделать этого, так же как не можете и вы обменять свое спасение на спасение тех, кто отверг Христа. Но апостол чувствует величайшую любовь к родным ему по плоти людям, через которых были переданы те обещания искупления, которые он теперь провозглашает в своем послании. Он подчеркивает, что именно Израилю был дан закон, обетования, знак обрезания и особая благодать Бога. Но что вызывает такую скорбь Павла: не все израильтяне получили искупление.
Поэтому он делает еще один вывод. Стих 6: «Но не то, чтобы слово Божие не сбылось». То есть он говорит: не думайте, что Слово Божие оказалось бессильным только потому, что некоторые люди не пришли к вере. И добавляет: «Ибо не все те Израильтяне, которые от Израиля; и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя». Павел обращается к ветхозаветному обетованию и показывает, что Бог не обещает того, что все израильтяне будут искуплены - Он говорит только о потомках Исаака. «То есть не плотские дети суть дети Божии». Павел хочет сказать, что в ветхозаветные времена никто не получал спасения только на основании биологических или этнических признаков, так же как мы не спасаемся только потому, что мы американцы или русские, или англичане, или кто-то еще. Вы не получите спасения за то, что вы член церкви. Так же как вы не получите автоматически спасения только потому, что решили спуститься по проходу между скамьями в церкви или подписали какую-то бумагу, или произнесли какую-то молитву. Вы не будете спасены ничем, пока не обретете веру. Все эти внешние действия только могут так или иначе свидетельствовать о присутствии в вас веры.
Апостол продолжает: «А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сарры будет сын. И не одно это; но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого (дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от Призывающего), сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего, как и написано: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел».
Павел говорит, что Бог являет величие Своего избрания на всем протяжении Ветхого Завета, и напоминает своим читателям в Риме, что Бог одаривает людей неодинаково . Иаков получает благословение от Бога, а Исав нет. Даровав же благословение Иакову, Бог нарушил установленную традицию. Обычной традицией было передавать право наследия старшему сыну. А здесь речь идет не просто о наследии земли и т.п., но о благословении патриархов, в котором содержалось обещание будущего спасения. Но в данном случае, как показывает Павел, в Ветхом Завете говорится, что благословение Бога получает не старший сын Исав, а младший Иаков. Бог даже обещает, что «больший будет в порабощении у меньшего». Зачем? Чтобы была явлена воля Бога в избрании.
Затем Павел говорит, что Бог выносит решение о предопределении… когда? В то время, когда ни один из сыновей Исаака еще не появился на свет и не совершил ни плохого, ни хорошего. Главное, что хочет сказать здесь Павел - что избрание Богом Иакова и отвержение Исава было основано не на том, что сделал или мог бы сделать тот или другой, но было вызвано только высшей волей Творца и даром Его благодати .
Мне знакомы тысячи уловок, с помощью которых люди пытаются обойти значение этого отрывка. Некоторые утверждают, что Павел говорит здесь не об индивидуальном, личном спасении отдельного человека, но об избрании Богом определенного народа. Потому что Иаков стал отцом еврейского народа, а от Исава произошли арабские племена. Так что здесь речь идет не столько об отдельных людях, сколько о больших массах людей.
С этим связано две проблемы. Вся восьмая и девятая главы говорят не о национальных проблемах, а о том, как отдельные люди становятся членами семьи Божией. Но даже если оставить это в стороне, вопрос остается, потому что нации состоят из отдельных людей. И если мы в принципе отказываемся признавать, что Бог избирает одних людей и отвергает других, и говорим только об избрании целых народов и предпочтении одного народа другому, то мы радикальным образом отходим от слов Павла. Потому что даже если Павел говорит о судьбе народов, выбор Бога происходит в лице двух конкретных людей - действующими лицами у Павла являются именно Иаков и Исав.
Он понимает, что у читателя вполне может возникнуть удивление, недоумение и даже протест. И в стихе 14 апостол снова задает риторический вопрос: «Что же скажем? Неужели неправда у Бога?» Давайте остановиться здесь на секунду и вернемся к такому представлению об избрании, которое утверждает, что в конечном счете Бог избирает только тех, кто активно откликается на дар благодати. Это не значит, что люди сами прокладывают себе путь на небо, вообще без помощи благодати. Но давайте представим себе, что Бог предлагает дар благодати всем людям, и одни его принимают, а другие отвергают. Это прекрасно согласуется с представлением об избрании и предопределении: Бог избирает только тех, кто принимает Его благодать, и не избирает тех, кто ее отвергает.
Но если суть библейской доктрины избрания такова, то у кого хватит духу сказать, что это несправедливо? Что может быть более справедливым, чем оставить решать вопрос о своем спасении самому человеку? В таком случае Бог будет свободен от всякого обвинения в несправедливости, если избрание происходит действительно так. Но если Павел разделяет эту полупелагианскую точку зрения, то предполагаемое возражение, которое он высказывает в свой адрес, теряет смысл. Если же он отстаивает августинианское представление, что причина по которой был выбран Иаков, а не Исав, есть исключительно благодать Божия, то это сразу же вызывает возглас протеста: «Это несправедливо! Как Бог может так поступать?» Именно такого возгласа ожидает Павел. И это убеждает меня, что мы на верном пути, что мы следуем за мыслью самого Павла, когда он чувствует возможное возражение и сам произносит его: «Неужели неправда у Бога?»
Как же он отвечает на этот вопрос? Говорит ли он: «Ну, может быть, только чуть-чуть»? Нет! Он говорит: «Никак». Другие переводы предлагают вариант: «Ни в коем случае!» Или даже: «Боже сохрани!» Все эти выражения передают энергичное отрицание подобного предположения. «Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею».
Здесь мы должны сказать о нескольких вещах. Закавычивая эти слова, Павел показывает, что он не является их автором и что он не учит чему-то принципиально новому в Новом Завете. Он приводит слова Моисея, посредника прежнего завета с Богом, который как глашатай Самого Бога мог говорить от Его лица, передавая Его слова: «Кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею». То есть Бог имеет право даровать благодать и милость исключительно по Своей воле и по Своему желанию. В этом смысле Его власть абсолютна. Ничто не может обязать Бога быть милосердным.
Я постоянно возвращаюсь к этой мысли, потому что нам, американцам, свойственно полагать, что Бог поступает в этом плане «недемократично». Мы говорим: «Если Он помиловал одного, то теперь у Него есть моральное обязательство помиловать и остальных». Я же останавливаю человека и спрашиваю: «Почему?» Единственное, чего требует от Бога Его праведная и святая природа - поступать по справедливости. Если же Он смотрит на двух грешников и говорит одному: «Я проявлю снисхождение и помилую тебя», - а другому: «Я воздам тебе по заслугам за твои грехи», - то в одном случае мы видим милость, а в другом справедливость. Но ни в одном случае нет несправедливости.
Я должен помнить, что если Бог не даровал мне благодать, Он остается абсолютно справедлив в Своем решении. И если Он отправит меня в ад, то у меня нет права говорить, что Он поступил нечестно. Потому что только этого я и заслуживаю. Я отпал от Бога, я нарушил Его закон. Но несмотря на все это, Он помиловал меня. Именно об этом говорит Павел: что Бог имеет полное право миловать того, кого Он Сам решил помиловать. «Кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею».
И вот Павел делает важнейшее заключение, по крайней мере для этого раздела, в стихе 16: «Итак помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего». В этих словах, друзья мои, сосредоточена суть проблемы предопределения. В современной культуре доминирует представление, что в конечном счете спасение зависит от нашей воли, нашей энергии, нашего выбора, наших действий. И в этом причина того, почему вы обретаете спасение, а кто-то нет: просто вы выбрали правильный путь, а они - неправильный, вы пожелали нужных вещей, а они - бесполезного, вы выбрали Христа, а они отвергли Его. И за это Бог избрал вас: потому что вы делали нужные вещи. Именно против такого понимания спасения предостерегает здесь апостол Павел: «Помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего».
Итак, давайте повторим. Павел начинает с того, что предлагает нам посмотреть на Иакова и Исава в тот момент, когда они еще находятся в материнской утробе. Они еще не сделали ни единого вздоха, не приняли ни одного решения, не сказали ни слова, не совершили ни одного движения - они еще не сделали ничего , но еще до их появления на свет, Бог заявляет: «Больший будет в порабощении у меньшего». И Он дарует обетование искупления одному и отворачивается от другого. Почему? Чтобы явить Свою волю, чтобы благодать Бога была явлена во всей своей силе, чтобы показать, что спасение, друзья мои, это не ваша заслуга. Оно не достигается человеческими силами. От начала, от самой вечности, и до конца, до самого осуществления вашего спасения во времени и пространстве, спасение совершается только Богом , Его благодатью, которая ведет вас к Иисусу Христу.
Это не значит, что наша вера ничего не стоит и мы на самом деле не идем ко Христу. Мы идем к Нему. Но уже после того, как Он делает первый шаг к нам. Мы выбираем Христа, потому что Он прежде избрал нас и освободил от уз греха, которые никогда бы не позволили обратиться к Нему, если бы Он не помог нам. Но Сам Бог посылает в ваше сердце веру, благодаря которой вы спасаетесь.
В стихе 19 апостол говорит: «Ты скажешь мне: ‘за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?’ А ты кто, человек, что споришь с Богом?» Но именно так мы и поступаем, когда восстаем против дара благодати Божией - мы спорим с Богом.
Я понимаю, что многие из вас первый раз в жизни столкнулись со всеми этими сложностями в понимании 9 главы Послания к Римлянам. Для таких моих слушателей я хотел бы сказать еще несколько слов. Как я говорил в начале, мы движемся по тексту послания семимильными шагами и касаемся только самых верхов проблем. Поэтому я очень надеюсь, что вы сможете изучить вопросы предопределения и избрания гораздо более глубоко. Но если вас уже утомил наш разговор, расслабьтесь на минуту.
Как раз вчера я получил письмо от одного молодого человека, которое согрело мое сердце. Он писал, что начал слушать наши передачи по радио и услышал много полезного для себя. А затем, писал он мне, он услышал, что я говорю о предопределении, и это настолько возмутило его, что он буквально «вырубил» меня - «вырубил» приемник. А через несколько месяцев один из его друзей дал ему несколько кассет и посоветовал их послушать. И по невероятной случайности это были кассеты с моими выступлениями, где я рассуждал на ту самую тему, которая привела его в ярость. И вот, он пишет мне, что прослушав эти кассеты, он не только согласился с доктриной избрания, но стал находить радость и поддержку в той уверенности, которую дает апостол.
И я говорю вам: если эта доктрина кажется вам сложной, не бросайте ее, не прекращайте размышлять над ней. И помните, что Бог, который спасает нас - это тот же самый Бог, Который сотворил Адама и из всех людей спас одного Ноя. Это Бог, Который помогал Исааку, Иакову, Иосифу, Давиду, Иеремии, Который явился Павлу по дороге в Дамаск. Отношения Бога с людьми всегда различны. И главное, что остается нам - благодарить за дар Его благодати.
Цель закона – Христос (1–4). Спасение по благодати (5–11). Израиль сам виноват в своем отвержении (12–21).
. Братия! желание моего сердца и к Богу об Израиле во спасение.
Апостол начинает теперь развивать и углублять мысль, высказанную в 30–33 стихах IX-й главы. Израиль, ослепленный своею собственною мыслию о достижении праведности, не понял, что целью, к которой вел евреев закон, был Христос и принесенная Им праведность от веры.
"Желание" – правильнее: благожелание (ευδοκία ).
. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению.
. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией,
«Поставить» , т. е. сделать чем-то обязательным (Ср. ; ). – «Собственную праведность» , т. е. такую, какая могла бы получиться вследствие совершения самими людьми известных дел и подвигов (ср. Флп 3и ). – «Праведности Божией» , т. е. божественному порядку жизни, которому люди должны выражать повиновение через веру.
. потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего.
«Потому что…» . Апостол этим доказывает, что непослушание иудеев Христу происходило от непонимания ими праведности Божественной, о которой свидетельствовал закон. Закон указывал на Христа; во Христе явилась пред нами праведность, на которую закон указывал, как на идеал, и дается она каждому, кто верует во Христа. Правильно понимаемый закон должен бы служить евреям детоводителем ко Христу, чтобы они могли оправдаться через веру в него. – Таким образом, выражение «конец закона» правильнее заменить другим выражением: цель закона, как понимали это место и другие толкователи (И. Злат., Феодорит, Феофилакт). Такой перевод соответствует и смыслу поставленного в греч. тексте выражения (τέλος νόμου ). Но каким образом закон мог указывать на Христа, как на свою собственную цель? В законе начертан идеал праведности. Так как этот идеал начертан Самим Богом, то он непременно должен осуществиться. Между тем люди собственным опытом убедились в том, что никто из них не в состоянии осуществить этот идеал своими силами (). Поэтому явился Христос, Который и осуществил его. Уже на основании этого Апостол мог сказать, что Христос – цель закона. Но этого мало. Закон не достиг еще вполне своего назначения, когда один человек осуществил его предписания, – закон дан для всех. И вот Христова праведность, исходя от Христа, переходит на всех верующих в Него. Таким образом, Христос является целью закона в полном смысле этого слова, и вместе с тем, пожалуй, концом его, потому что окончательно осуществляет цель закона – оправдание человека.
. Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его человек жив будет им,
Сам Законодатель, Моисей, признавал недостижимым делом – получение праведности, потому что для этого человек должен был исполнить все многообразные предписания закона. Между тем, получение оправдания теперь, с пришествием Христа, представляется вполне возможным, потому что оно требует от человека только твердой веры во Христа.
Желая показать неразумие иудеев, с упорством стоявших за прежний способ оправдания – через исполнение закона, Апостол говорит, что сам Моисей считал такой путь не ведущим к цели, так как, по его заявлению, жизнь или оправдание может быть получено только тем человеком, который исполнит все, без исключения, предписания закона (). А что такое исполнение непосильно ни для кого из смертных – это было уже показано Апостолом в послании к Римлянам ().
. а праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем: кто взойдет на небо? то есть Христа свести.
. Или кто сойдет в бездну? то есть Христа из мертвых возвести.
Напротив, праведность от веры, выступающая в настоящее время в качестве спасительницы человека, говорит так: "не говори" . Апостол, хорошо сознавая, что Моисей еще не мог говорить того, что говорит теперь праведность от веры, тем не менее пользуется его словами для выражения своей собственной мысли, относящейся к современному ему положению вещей. Моисей () вовсе не утверждал, что исполнение закона – легкое дело, а говорил только, что Израиль не может оправдывать свои преступления незнанием закона. Он указывал на то, что Израилю нет надобности дожидаться какого-нибудь вестника с неба, где обитает Бог, или посылать за море, к какому-нибудь чужому народу, где, может быть, известно что о воле Божией; к Израилю Бог уже говорил Сам в законе, Сам объявил ему Свою волю (, 30и сл.). Апостол же употребляет выражения Моисея в другом смысле. Он говорит, что спрашивающий: «кто взойдет на небо?» этим самым «сводит с неба Христа». Выражение "то есть" обозначает мнение или взгляд, намерение, с каким задается вопрос. Неверующий во Христа иудей, которого здесь имеет в виду Апостол, полагает, что Мессия еще не явился, но явится впоследствии, может быть, с неба, а может быть – из преисподней (бездна здесь употребляется в смысле преисподней, ср. ; ). Но говорить так – значит повторять то же преступление, какое делали и древние евреи, не видевшие в законе вполне достаточного разъяснения воли Божией.
. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем.
«Но что говорит Писание?» По лучшим кодексам читается: «но что говорит?» (т. е. эта праведность от веры). Здесь праведность от веры дает уже положительное разъяснение дела. Апостол, впрочем, и здесь облекает свой ответ в форму речи Моисея (): «близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем». Но Апостол, вместо того, чтобы сказать, что Мессия уже явился и жил на земле и этим выяснить, насколько и для неверующих иудеев «близко слово», говорит, в пояснение этой близости, о том, что уже раздается проповедь апостолов о пришедшем Мессии (ср. ). Это делает он ввиду того, что Христос для неверующих иудеев ничем не отличается от других людей, которые умерли и пребывают в преисподней. На земле же Он для них является в слове проповеди, которая раздается из уст апостолов. И эта проповедь есть слово веры в противоположность закону дел (ср. ; ). Она возвещает о совершившемся искуплении, для восприятия которого не требуется ничего, кроме веры, тогда как закон всегда требовал дел от самого человека. И это слово веры несравненно ближе для слушателей, чем учение закона Моисеева, потому что путь от слышания проповеди апостольской к вере и исповеданию гораздо ближе, чем путь от слышания заповедей закона Моисеева к их всецелому исполнению.
. Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься,
Это последнее слово праведности от веры, с которым она теперь обращается к неверующему иудею. Так как речь и здесь обращена к неверующему иудею, то Апостол особенно подчеркивает необходимость веры в воскресение Христа (ср. ).
. потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению.
Здесь уже говорит сам Апостол, разъясняющий вышеприведенное требование, какое высказано устами праведности от веры. Он различает здесь праведность или оправдание, получаемое при вступлении в Церковь Христову, и окончательное спасение, какое будет дано верующим при втором пришествии Христа на землю. Первое достигается только сердечным, искренним принятием Евангелия (сердцем), а второе продолжающимся в течение всей жизни христианина твердым исповеданием Христа пред Его врагами (ср. ; ).
. Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится.
. Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его.
«Один Господь» – это Господь Иисус Христос, Спаситель всех людей, которые Его призывают (Иоанн Злат.). – "Богатый" – конечно, благодатью и спасением (ср. ; ). – «Призывающих Его» . Как видно из последующего, Апостол не делает никакого различия между призыванием Христа и призыванием Бога.
. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
То, что говорит Иоиль о Боге (, по греч. тексту LXX), Апостол относит прямо ко Христу. Следов., место из кн. пророка Иоила имеет, по апостолу, мессианское значение.
. Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего?
Но для того, чтобы уверовать в Спасителя, как в Господа, нужно было услышать проповедь о Нем. Должны были явиться проповедники или вестники о Христе, которые непременно должны были иметь на это дело полномочие от Бога. Таким образом, значит, это была воля Божия, что проповедь о спасении через веру была возвещена и иудеям. Если же иудеи оказались невнимательными к этой проповеди, то этим смущаться нечего: собственные пророки народа еврейского предвидели, предсказали это неверие евреев, равно как и обращение ко Христу язычников. Израиль, очевидно, не захотел уверовать во Христа и, таким образом, сам виноват в своем отвержении.
. И как проповедывать, если не будут посланы? как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!
. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: Господи! кто поверил слышанному от нас?
. Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия.
«От слова Божия» , т. е. от повеления Божественного ( Рим.10:19 . Еще спрашиваю: разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным.
«Разве Израиль не знал?» т. е. «разве евреи в самом деле не поняли проповеди о спасении чрез веру?» Ответ на этот вопрос должны дать сами читатели, и этот ответ ясен: да, они не поняли Евангелия! Язычники поняли, а евреи – нет, и в этом сбылось предсказание Моисея ().
. А Исаия смело говорит: Меня нашли не искавшие Меня; Я открылся не вопрошавшим о Мне.
. Об Израиле же говорит: целый день Я простирал руки Мои к народу непослушному и упорному.
Почему же евреи не поняли Евангелия? Потому, что они – народ непослушный и упорный в своем неверии. Они не захотели уверовать, как об этом пророчествовал и пророк Исаия, пророчествовал смело, не боясь злобы народа, который ревниво охранял свои права на Царство Мессии.
Послание к Римлянам было написано ап. Павлом в дни его третьего путешествия, во время - по всей вероятности, к концу - его трехмесячного пребывания в Элладе. Это вытекает из сопоставления указания Деян. 20:3 с отдельными указаниями Римл. (16:1 и др.). Мы имели повод касаться некоторых из них, когда говорили о третьем путешествии ап. Павла. Мы знаем и то, что Римская Церковь Апостолу Павлу в это время еще не была известна, но вера Римских христиан уже возвещалась во всем мире (Римл. 1:8. ср. еще 15:14 о духовном состоянии Римлян).
Тем, что ап. Павел отправлял послание к Римлянам, не будучи с ними знаком лично, объясняются главные особенности послания. В отличие от посланий к Коринфянам, Павел не касается фактов жизни Римской Церкви. Мы видели, что даже предостережение 16:17-20 может быть понимаемо не как отклик на события, происходящие в Риме, а как отражение тяжелых переживаний самого Апостола, - по всей вероятности, в Коринфе (ср. Деян. 20:3). Но и о себе ап. Павел сообщает немного. В гл. 15 он только потому и говорит о предстоящем ему путешествии в Испанию, что на пути в Испанию он намеревается заехать в Рим (стт. 22-24, 28-29), и упоминает производимый им сбор в пользу Иерусалимской Церкви для того, чтобы привлечь к молитвенному участию в этом сборе и Римлян (15:25-27, 30-32).
С тем большими подробностями останавливается ап. Павел на содержании своего благовестия. Он облекает в письменную форму то, что в основанных им Церквах было предметом его устной проповеди. От других посланий ап. Павла Римл. отличается не только скудостью личных подробностей, но и систематическим изложением учения. Система Римл. построена под углом зрения злободневной в то время иудейской проблемы. Этим объясняются многочисленные точки соприкосновения между Римл. и Гал. Подобно Ефес. и Колосс., или 1 Тим. и Тит., эти два послания можно определить, как парные послания. Предлагая христианское учение в систематическом обзоре, Апостол Павел стремился к определенной цели. В дни своего третьего путешествия он был озабочен единством христианского мира. Обращаясь к Римской Церкви, он рассчитывал привлечь к этому единству и ее. Возможно, что его планы простирались и дальше. Павел думал о благовестии в Испании. С привлечением Рима к единству христианского мира, он, может быть, надеялся найти в Римской Церкви ту прочную базу, которая ему была нужна для благовестнических трудов на Западе.
Обращение Римл. отличается особою пространностью (1:1-7). Подчеркнув свое апостольское достоинство, Павел обращается к Римлянам по праву своего служения у язычников. Зная, о чем он будет писать, Павел с первых же слов полагает ударение на вере (ст. 5) и отмечает ветхозаветное основание Христианского благовестия (стт. 2-3). Благодарение, которое следует за обращением (1:8-17), Павел возносит о преуспеянии Римлян в вере, вызывающем с его стороны желание личного общения. Личное общение, как утешение общею верою (ст. 12), есть, неизбежно, общение, в благовествовании. Содержание благовествования и предпосылается в послании. Его основные мысли Апостол формулирует в стихах 16-17. Во-первых, спасение понимается, как откровение правды Божией. В понятии правды Божией ап. Павел мыслит и в послании раскрывает два момента. Объективно, правда Божия есть та полнота нравственного добра, которая присуща Богу. Бог есть носитель правды, как высшего идеала добра. Но к правде Божией дано приобщаться и человеку. Начало этого приобщения есть оправдание. Оправдание есть черта, у которой кончается греховное прошлое человека. Человек освобождается от ответственности за грех, он объявляется правым перед Богом. По слову Римл. 3:26, Бог есть праведный и оправдывающий. Поскольку, однако, идеал правды есть правда Божия, одно оправдание еще не означает приобщения к правде Божией. За гранью оправдания начинается путь восхождения: непрерывное возрастание оправданного в стремлении к пределу правды Божией. Во-вторых, начало спасения в смысле приобщения человека к правде Божией есть вера. Павлово понятие веры было разъяснено выше. Римл. тем и приближается к Гал., что его основная догматическая тема, во всяком случае, в глл. 1-4, есть спасение верою. Мы уже отметили ударение на вере в обращении (ст. 5, ср. еще ст. 8). В стт. 16-17 оно подчеркнуто с особою силою и подкреплено текстом из пророка Аввакума. Но если приобщение к правде Божией, поставленное в зависимость от веры, должно быть понимаемо, как процесс деятельного восхождения, - то и вера имеет разные степени: Павел говорит о возрастании веры. Из слов Апостола вытекает, что мера откровения правды Божией находится в прямой зависимости от возрастания веры. И, наконец, последнее: путь спасения по вере открыт каждому. В представлении иудеев, а, значит, и Павла, род человеческий делился на две части: на иудеев и на эллинов. Спасение по вере объемлет и иудеев, и эллинов. Павел провозглашает абсолютный универсализм спасения. Но преимущество - по силе непреложных обетований Божиих - имеют иудеи (ст. 16). Правда, с преимуществом спасения связано и преимущество ответственности. Иудеям принадлежит первенство в наследовании спасения, но они и первые несут наказание за зло (ср. 2:9-10). Мысли, намеченные в стт. 16-17, получают развитие в послании.
Первая - догматическая - часть послания (1:18-4) доказывает положение об оправдании верою. Павел отправляется от факта всеобщности греха (1:18-3:20). Он, прежде всего, показывает, что ответственность за грех несут и язычники (1:18-32). В естественном откровении им было дано познание Бога, которым они пренебрегли. Те страшные грехи, - и в том числе и в первую очередь грехи против естества, - в которые они впали, были попущены Богом в наказание. Но сила греха господствует и над иудеями (2-3:20), Павел признает непреложные преимущества иудеев, покоящиеся на нерушимом слове Божием. Но под властью греха эти непреложные преимущества оказались бездейственными. Положение иудеев, имеющих закон, не отличается от положения язычников, не имеющих закона. Грех иудеев являет бессилие закона, то самое бессилие, на котором Павел настаивает и в Гал. Закон не дает оправдания.
Из факта всеобщности греха Апостол делает вывод, что и путь оправдания должен быть общий для всех. Этот общий путь есть путь веры. Отрывок 3:21-31, в котором этот тезис развивается, есть центральный догматический отрывок в первой части послания. Мысли ап. Павла могут быть сведены к следующим основным положениям. Первое: в основании спасения лежит объективный момент: явление благодати Божией в искупительном подвиге Христовом (ср. стт. 24-25). Но к этому объективному факту - и тут мы переходим ко второму положению - человек приобщается верою (ср. ст. 22 и др.). Человек верою приемлет благодать. В богословии ап. Павла понятие веры соотносительно с понятием благодати. Благодать, по самому своему существу, есть дар, благой дар (ср. ст. 24: даром ). С своей стороны, и вера противополагается делам закона. Где вера, там нет места для юридического принципа: Бог по благодати дает. Человек по вере принимает: принимает, отдаваясь в вере Богу. И, наконец, третье положение: спасение, как усвоение благодати верою, есть явление правды Божией (ср. стт. 21-22, 24-26, 28, 30). Правда Божия является в тех двух ее аспектах, о которых была речь выше. Комментируя 1:16-17, мы предвосхитили учение 3:26. Но в гл. 3 ударение лежит не на объективной стороне, не на явлении правды Божией, как высшего идеала добра, а на приобщении в правде Божией человека, в частности, на оправдании (ср. стт. 24-28, 30). Позволительно, однако, утверждать, что Апостол думал при этом и об откровении правды Божией, как некоей объективной реальности. В ст. 23 он говорит о лишении славы Божией, как общем для всех следствии греха. Под славою Божиею большинство толкователей понимают ту светоносную славу Божию, которую, по иудейскому представлению, Адам имел до грехопадения (ср. в 2 Кор. 3:7-13 о славе Моисея). Оправдание, как изглаждение греха, предполагает восстановление утраченной славы. Оно совершится в полноте в жизни будущего века, но начало ему полагается уже ныне, как некое самооткровение Божие в человеке. Это самооткровение Божие и есть явление объективной реальности в оправдании человека.
Вера, как начало оправдания, противополагается закону. Оправдание дается даром, по благодати, без закона (ст. 21 ср. 28; русский перевод: независимо от закона ). Но Павел, как и в Гал., не думает уничтожать закона верою: он его утверждает (ст. 31). В Гал. за законом признается функция педагогическая и преобразовательная. С этих же двух сторон ап. Павел подходит к закону и в Римл. Он потому и не видит другого пути оправдания, кроме веры, что законом всего лишь познается грех (ст. 20). О познании греха законом он будет говорить и дальше в гл. 7. Закон дает объективную норму, которая позволяет судить о наличности греха. С другой стороны, закон и пророки свидетельствуют о правде Божией (ст. 21). В этом случае закон понимается, как и в Гал. 4, в смысле Ветхого Завета в целом. Неизбежность этого понимания доказывается тем, что, наряду с законом, упоминаются пророки. В гл. 4, развивая мысль 3:31, Апостол сосредоточивает на законе исключительное внимание. Как и в Гал. (глл. 3, 4), он останавливается на примере Авраама. Он видит перед собою иудейского оппонента - по всей вероятности, воображаемого - и ему отвечает. Это - его обычный прием в Римл. Мы встречаемся с ним в гл. 3 (ср. стт. 1-9) и снова в гл. 6 (ср. стт. 1-15). Для иудеев Авраам был классическим примером оправдания делами закона. Между тем, даже обрезание, в котором можно видеть дело закона, он получил только впоследствии, как некий знак, которым запечатлевалась его праведность по вере, а не по делам закона. И потому ап. Павел возводит к Аврааму, как некоему общему родоначальнику, всех без исключения верующих, как в необрезании, так и в обрезании (ср. стт. 11-12). Обетования, данные Аврааму, и семени его, основаны на праведности веры, а не на законе (ср. стт. 13 и слл.). Содержание обетования и составляет предмет его веры. Обетования были связаны с зачатием Исаака от отца, достигшего почти столетнего возраста (ст. 19). Тем самым, вера Авраама оказывается верою в животворящую силу Божию и, как таковая, - прообразом христианской веры в Воскресение Господа Иисуса Христа (стт. 23-25).
В обычном построении посланий ап. Павла, пример которого мы уже имели в Гал. (ср. еще Ефес., Колосс.), за первою частью, содержащей изложение догматического учения, следует вторая, посвященная вопросам практическим. Этому общему типу подчинено построение и Римл. Но, изложив учение об оправдании верою (1:18-4), Павел не тотчас переходит к практическим наставлениям, а сосредоточивает свое внимание на предпосылках христианской нравственности (глл. 5-8). Что этот большой отдел имеет значение перехода от учения догматического к учению практическому, ясно из того призыва, с которого он начинается. В русском переводе 5:1 звучит: "...оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом". Но в лучших рукописях греческого текста стоит не изъявительное наклонение, а сослагательное - да имеем . Павел считается с фактом оправдания верою. Грешное прошлое зачеркнуто. Но остается долгий путь возрастания в праведности. На этот путь Павел и зовет верующих и, в первую очередь, самого себя.
Нравственное поведение христианина основано на том даре благодати, к которому мы имеем доступ по вере (ст. 2а). Сущность этого благодатного дара ап. Павел выражает в форме троякой хвалы (ср. стт. 2б, 3-5 и слл., 11 и слл.). В свое время было указано, что в богословской терминологии ап. Павла понятие хвалы предполагает обладание некоей положительной ценностью. Всякая положительная ценность есть ценность в Боге. Облекая учение о благодати в форму троякой хвалы, Павел хочет показать, что дар благодати, исходящий свыше, делает верующего обладателем положительной ценности. Эта ценность есть, прежде всего, надежда на славу Божию (ст. 2б). Понятие славы возвращает нас к 3:23: надежда должна получить исполнение в жизни будущего века.
Вторая хвала есть хвала, скорбями (стт. 3-5). Для ап. Павла в скорбях заключена положительная ценность потому, что скорби, воспитывая терпение и опытность, тоже приводят к надежде. Тем самым, вторая хвала совпадает с первою хвалою. Мы не имеем основания понимать надежду ст. 5 иначе, как надежду славы ст. 2. Но в ст. 5 надежда утверждается на любви, которая "излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам". О действовании Духа Святаго ап. Павел писал и в Гал., а о залоге Духа - в 2 Кор. Перфектная форма излилась говорит о неотъемлемом даре. В Римл. 5 Павел видит доказательство любви Божией в искупительной смерти Христовой (стт. 6-10). Но, если спасительным средством была смерть Сына Божия, то полноту спасения Апостол ожидает от нашей жизни со Христом. Жизнью Его выражает мистическую реальность: участие верующего в жизни Прославленного Господа. Но Апостол не только исповедует в благодати непосредственную надежду, в которой его укрепляют и скорби, выпадающие на его долю. Он хвалится Самим "Богом чрез Господа Иисуса Христа" (ст. 11). Эта третья хвала есть свидетельство неразрывной связи, которая соединяет его с Богом, по силе искупительного подвига Христова. Он обосновывает свою мысль в стт. 12-21. Как и в 1 Кор. 15, Павел противополагает двух Адамов: первого, которым вошел грех, и второго, Который принес благодать. Мысль о праотце Адаме, как о началоположнике человеческого греха и виновнике смерти, вытекает из ст. 12, каково бы ни было значение приводимых в послании слов. Значат ли они "в котором", т.е. в Адаме, или "потому что" , они, во всяком случае, выражают мысль, что в человеческом роде грех и смерть пошли от Адама. Первое толкование вычитывает в ст. 12 законченную теорию первородного греха, как соучастия потомков в грехе предков. Эта теория находится в согласии с Новозаветным учением в целом (ср., например, Евр. 7:9-10). Очень возможно, что Павел, говоря об Адаме, действительно думал о первородном грехе. Но даже если он о нем и не думал, его мысль в контексте отрывка ясна. Что грех действовал в роде человеческом и до Моисея, чрез которого был дарован закон, очевидно из того, что и в это время царствовала смерть, являющаяся наказанием за грех. Последствия греха Адама, который, как нарушение заповеди, был преступлением, распространялись на многих, не совершивших его преступления. С дарованием закона, грех стал преступлением, что означало его отягчение. Но единому началу греха, в лице Адама, противостоит преизобильный источник благодати, в лице Иисуса Христа. Ответом на умножение греха, в связи с дарованием закона, и было преизобильное излияние благодати, утверждающей жизнь вечную чрез Господа нашего Иисуса Христа. Жизнь вечная и противополагается смерти, как последствию греха. Надежда на жизнь вечную, к которой приводит Апостола третья хвала, есть, таким образом, та же надежда славы, о которой он говорил в первой и во второй хвале. Надежда славы в скорбях и в отдании себя Богу и есть, для ап. Павла, основание христианской нравственности.
Но в 6:1 Апостол угадывает новое возражение иудейского оппонента. Если умножение греха вызвало преизобильное излияние благодати, не значит ли это, что мы должны искать греха для умножения благодати? На этот вопрос Павел отвечает решительным отрицанием. Толкуя христианское крещение, как крещение в смерть Христову, иначе говоря, как наше погребение со Христом, ап. Павел считает, что для греха принципиально не остается места (стт. 2-14). Участие в смерти Христовой предполагает и участие в Его воскресении. Апостол и здесь готов понимать наше воскресение со Христом буквально (стт. 8-9, ср. указание на славу Отца в ст. 4). Но ударение в гл. 6 эсхатологическое. И смерть и воскресение Павел толкует по преимуществу переносно, как нашу смерть греху и жизнь для Бога в послушании правде (ср. развитие этой последней мысли в стт. 15-25, в ответ на новое возражение иудейского оппонента). Правда, противополагаемая греху, и есть та святость, которая венчается жизнью вечною во Христе Иисусе. Жизнь вечная, как дар Божий, противостоит смерти, возмездию за грех (стт. 22-23). Таким образом, отводя возражение иудейского оппонента, Павел существенно дополняет учение о благодати, как основании христианской нравственности: благодать есть стимул практического поведения верующего по ее внутренней противоположности греху. В гл. 7 Апостол возвращается к мысли о связи греха и закона, которой он касался раньше (5:20-21, ср. 3:20, Гал. 3:19). Мы имели случай отметить соотносительность Павловых понятий веры и благодати, а, с другой стороны, принципиальную противоположность веры и закона. Из гл. 6 вытекает, что домостроительство благодати заступило место домостроительству закона (ср. стт. 14-15). В гл. 7, еще раз отметив конец закона в смерти Христовой (стт. 1-4), Павел показывает, в чем состоит связь греха и закона (стт. 5-25). То, что Апостол пишет о психологии греха (ср. стт. 7-11), как влечения к запретному, о двух законах, которые борются в человеке, о власти тела, восстающего против ума (ср. стт. 22-25), отражает личный опыт пишущего, пережитый им в подзаконном состоянии, но знакомый и каждому христианину. Эта страница в Римл. принадлежит к самым сильным словам, которые когда-либо были сказаны ап. Павлом. Она имеет, поистине, общечеловеческое значение. В ст. 25б Павел подводит итог сказанному. Но ему предшествует победный клич, которым Апостол отвечает в ст. 25а на вопль раздвоенности (ст. 24). Спасение от раздвоенности - в благодати. В некоторых рукописях ст. 25а прямо говорится о благодати Божией. Но даже в лучшей форме текста, которая лежит в основании и русского перевода, мысль Павла, несомненно, о благодати. Греху, отягченному законом, противостоит благодать. Благодать и спасает человека от греха. Грех и благодать - несовместимы.
К учению о благодати, как основании христианской нравственности, принадлежит и гл. 8. В главе 8 ап. Павел осмысливает то раздвоение, о котором была речь в гл. 7, как борьбу духа и плоти. Смысл спасительного дела Христова и есть осуждение греха во плоти. Духу человеческому сообщается дар Св. Духа, который соединяет нас со Христом (ср. ст. 10). В Духе Святом преодолевается власть плоти, и верующий усыновляется Богу (стт. 1-16). Но в нынешней жизни мы имеем только начаток Духа (ст. 23). С обладанием начатком связано ожидание полноты. Мы уже имели случай сближать "начаток" Римл. 8:23 с "залогом" других посланий ап. Павла. Цель верующего есть приобщение к божественной славе (стт. 17-30). Это приобщение есть вступление со Христом в полноту наследственных прав Сына. Но условие вступления есть участие в страданиях Христовых. В отличие от гл. 6, слава, о которой здесь идет речь, есть слава будущего века, та самая, которую человек утратил чрез грехопадение (ср. 3:23). Она распространяется и на тело (ср. ст. 23), и на всю тварь, которая тоже участвует в человеческом страдании и порабощена тлением (стт. 19-22). В этой надежде, которая, как и в гл. 5, есть надежда славы, Павел старается утвердить читателей (стт. 24-30). Он указывает на помощь Духа (стт. 26-27), Который влагает в наши уста слова молитвы. Очень возможно, что в ст. 26 Павел имеет в виду дар языков. Но с особою силою он говорит о Божественном изволении спасения (стт. 28-30). Угодная Богу полнота спасения понимается и тут, как слава, при том, как слава, уже данная (ст. 30: прославил ). Она дана в Божественном изволении спасения. Это свидетельство о Божественном изволении спасения не может быть основанием для учения о предопределении в Августино-Кальвиновском смысле, - однако, не потому, как обычно утверждается в учебных руководствах, что предопределение обусловлено предведением. Божественное предведение, уже заключает момент избрания. Но учение о предопределении, как его формулировал бл. Августин и развил Кальвин, распространяет предопределение и на осуждение. В Римл. 8 Павел говорит только о спасении. Он знает и торжественно провозглашает, что Богу угодно спасение человека. Он ничего не говорит о предопределении осуждения. Гл. 8 заканчивается в стт. 31-39 славословием Божественной любви. Она проявилась в служении Сына Божия, и от любви Христовой (такова лучшая форма текста в ст. 35) верующего во Христа не может отлучить никакое страдание и никакая тварь. В таком понимании гл. 8 оказывается кульминационной точкой Римл., и при том его догматического учения. Учение о спасении не исчерпывается пониманием спасения в смысле оправдания верою, но в согласии с Гал. (3 и 4 гл.) и Ефес. (1:5) возвышается до провозглашения усыновления спасаемых Богу. Вступление сына в полноту наследственных прав есть эсхатологическое исполнение усыновления.
В плане Римл. было бы естественно ожидать, чтобы от славословия Божественной любви 8:31-39 Апостол перешел к практическому учению. В действительности, практическая часть послания начинается только с гл. 12, а глл. 9-11 посвящены философии истории: Павел отвечает в них на вопрос о судьбе Израиля. В плане послания эти три главы являются отступлением, - но читатель подготовлен к нему с первых же глав. Мы видели, что ап. Павел постоянно воображает себя в присутствии иудейского оппонента, и этому оппоненту отвечает. У него нет сомнения и в нерушимости Божественных обетований Израилю, и он открыто высказывает свое убеждение, что иудеи, сравнительно с эллинами, имеют преимущество в наследовании спасения, но и несут сугубую ответственность. Мало того, в славословии Божественной любви Павел исповедует, что никакая сила не может отлучить его от Христа (ср. 8:35-39). Между тем, в гл. 9, ставя иудейскую проблему во всей ее остроте, он выражает готовность быть отлученным от Христа за братьев своих, сродников по плоти (ср. ст. 3). Употребленные им слова - в греческом подлиннике гл. 8 и гл. 9-не одни и те же, но мысль - одна. Замечательно, однако, что, выражая свою готовность быть отлученным от Христа ради иудеев, ап. Павел пользуется оборотом, который служит для передачи неисполнимого пожелания: он знает, что его желание не претворится в дело, - знает потому, что никто и ничто не может отлучить его от Христа.
Проблема поставлена с большою торжественностью в 9:1-5. Заключительные слова в этих стихах представляют и немалый догматический интерес. В той пунктуации греческого текста, которой держатся большинство толкователей, и которая лежит и в основании русского перевода, Павел исповедует со всей силой свою веру в божественное достоинство Иисуса Христа (ст. 5); он прямо называет Его Богом. Основная мысль этих стихов состоит в подразумевающемся противоположении. Павел перечисляет преимущества Израильтян, как они вытекают из Ветхого Завета. Дальше этого перечисления он не идет. Но сущность проблемы заключается в молчаливом противоположении; бесспорным преимуществам и непреложным обетованиям противостоит факт отпадения. Этот факт Апостол старается осмыслить. Он подходит к нему с трех сторон. Три его ответа взаимно друг друга дополняют. Только в своей совокупности они выражают мысль Апостола. Изолировать какой-нибудь один из этих ответов и представлять его, как учение ап. Павла, значило бы не понять его мысль. Не останавливаясь на частностях, можно сказать, что в существующем делении на главы три ответа ап. Павла, вообще говоря, отвечают трем главам его философии истории.
Первый ответ на вопрос о судьбах Израиля (9) есть призыв к смирению (стт. 6-21). Апостол отправляется от Библии. Он ссылается на пример детей Авраама и на другой пример - еще более показательный: двух сыновей Исаака. Их судьба была решена Богом, независимо от их заслуг. И Павел устанавливает общий принцип: глина не может требовать отчета от горшечника, по какой причине он сделал из нее один сосуд для почетного употребления, другой - для низкого. Человек должен склониться перед неисповедимыми судьбами Божьими. Многие толкователи видели тут учение о предопределении. Действительно, в отличие от гл. 8, Апостол говорит в гл. 9 не только о Божественном изволении спасения. Он прямо допускает возможность различного назначения сосудов, вылепленных из одной глины. Но здесь-то и надо помнить, что ап. Павел дает на вопрос о судьбах иудейства не один ответ, а три, и что изолировать эти ответы невозможно. Во все времена церковной истории выведение из бесспорных положений логически безупречных следствий было тем путем, который приводил к зарождению ересей. Божественная истина доступна человеку только отчасти и с разных сторон. Сам ап. Павел этих последних следствий не выводил.
Его второй ответ на вопрос о судьбах Израиля есть обвинение самого Израиля. Это - тема гл. 10, но ап. Павел подходит к ней постепенно. В 9:22-24 он говорит о милости и долготерпении Божием. После того, что было сказано в 1:18-3:20 о всеобщности греха, должно быть ясно, что наказания заслуживали все. Его отсрочка была проявлением долготерпения, и спасение было возможно только по милости Божией. В частности, вина Израиля состояла в том, что он искал "закона праведности"... "не в вере, а в делах" (9:32). Он не уразумел, что "конец закона Христос к праведности всякого верующего" (10:4). Павел старается показать, что учение об оправдании верою во Христа может быть выведено из Ветхого Завета (10:6-10). Как и во многих других случаях, он не дает точной цитаты (из Второзак. 30). Иудейские внебиблейские тексты доказывают, что те слова, на которые он ссылается, цитировались очень часто. Ссылка Павла в Римл. Х есть не столько цитата, сколько комментарий: сказанное о законе он прилагает ко Христу. Свою мысль он подкрепляет другими ссылками (стт. 11, 13) и в ст. 17 высказывает общее положение: "вера - от слышания, а слышание - от слова о Христе" (такова лучшая форма текста). Слово о Христе было проповедано Израилю, но проповеданному слову Израиль не внял. Это и есть его грех, за который он несет наказание.
И, наконец, третий ответ (гл. 11). Постигшее Израиля отвечает промыслительному плану Божию. В промыслительный план Божий входило, прежде всего, спасение остатка, как это бывало и в Ветхом Завете (11:1-10). Оно отвечало обетованию и совершилось по благодати, и доказательством спасения остатка является спасение хотя бы самого Павла, израильтянина от колена Вениаминова. Но Павлу важнее другое. Падение Израиля было попущено Богом для спасения язычников (стт. 11-32). Он иллюстрирует свою мысль притчею о маслине. От благородного ствола были отломлены благородные ветви, и на их место привита ветвь от дикого ствола. Это - язычники на корне Израиля. Израиль отпал по неверию, язычники держатся верою. Но и Израиль спасется, если не пребудет в неверии. Ап. Павлу открыта тайна спасения всего Израиля, во исполнение обетований Божиих в Ветхом Завете: когда войдет полнота язычников, тогда наступит конец и ожесточению Израиля: отсеченные ветви будут вновь привиты к благородному стволу. Спасение всего Израиля, вслед за вхождением полноты язычников, является, для ап. Павла, выражением общего закона: "всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать" (ст. 32). Славословием стт. 33-36, насыщенным цитатами из Ветхого Завета. Павел заключает свою философию истории. И его последнее слово (ст. 36): "все из Него, Им (буквально: чрез Него) и к Нему . Ему слава во веки. Аминь", повторяет мысль ст. 32. У читателя создается впечатление, что Апостол надеется на абсолютную полноту спасения, - полноту, которая распространится не только на коллективы, но и на отдельные составляющие их индивидуумы. Но эту мысль Павел не досказывает, как не досказывает ее ни один из Новозаветных писателей.
В 12:1 ап. Павел, наконец, переходит к практическому учению. Он начинает его призывом стт. 1-2. Нравственное поведение христианина понимается, в своей противоположности веку сему, как жертва живая, т. е., как посвящение всей жизни Богу. Направляющим началом является воля Божия благая, угодная, совершенная. Этих качеств она требует от человека. Нравственная жертва человека начинается с обновления ума, которое распространяется и на тело. Мы вспоминаем мысли гл. 8 о грядущей полноте спасения, в которой тело будет тоже участвовать. Человек должен сознавать себя частью единого целого (стт. 3-8). Это единое целое, тело Христово (ст. 5), есть Церковь (ср. 1 Кор. 12:27), хотя термина "Церковь" Павел, в этой связи и не употребляет. Отдельные части этого целого соотносятся друг с другом, как члены тела. Различием благодатных даров определяется и различие служений, которые читатели послания и должны нести со всем усердием.
В 12:9 Апостол переходит к частностям. Он дает конкретные наставления, не думая о системе. Но все они объединены проникающим их духом любви. Они и поставлены под знак любви с первого же слова. В 13:1-7 Павел особо останавливается на обязанностях к властям. Павел был римский гражданин. Он ценил это звание (ср. Деян. 16:37 и слл., 22:25 и слл.). Мы помним, что он сам апеллировал к кесарю (Деян. 25:11). И Дееписатель Лука, его верный ученик, постоянно подчеркивал его лояльность по отношению к государственной власти (ср. Деян. 17:6-9, 18:12-17 и др.). К такой же лояльности он призывает и своих римских читателей. Для ап. Павла носители власти - служители Божии. Время, когда ап. Павел писал Римл., несомненно, благоприятствовало такой оценке римской государственной власти. Это было в начале правления Нерона (Quinquennium Neronis), когда императорская власть стояла на достаточной высоте. К концу века положение переменилось. Для Тайнозрителя в Апокалипсисе, Рим есть Вавилон, великая блудница (гл. 17), и память о Нероне дает материал для образа Зверя (13:18, 17:8-11). Но и в эпоху начавшихся гонений, ап. Петр призывал христиан оказывать послушание носителям власти (1 Петр. 2:13 и слл.). Христианство никогда не призывало к политической или социальной революции. В 13:8-14 Павел подводит итог тем наставлениям, которые составляют первый отдел практического учения Римл. Он говорит о стимуле нравственного поведения, и опять особое ударение полагает на любви (стт. 8-10). Ст. 10 почти буквально повторяет Гал. 5:14.
Второй отдел в практическом учении Римл. всецело посвящен вопросу о немощных в вере (14-15:13). Явление, которое ап. Па-вед имеет в виду, до известной степени параллельно тому, которому посвящен отрывок 1 Кор. 8-10. Но идоложертвенное не упоминается. Отдельные члены Римской Церкви - немощные в вере, как их называет ап. Павел, - налагали на себя разные ограничения, преимущественно пищевые. Мы этого вопроса уже касались и высказали соображения, что с элементами иудейскими могли войти в сложное соприкосновение элементы языческие. В таком случае, мы имели бы дело с первыми проявлениями иудаистического гносиса. Как бы то ни было, практическое решение, которое предлагает ап. Павел, совпадает с тем, на котором он настаивает в 1 Кор. Его исходная точка есть свобода, которую он возводит, в согласии с общим учением Римл., к ее высшему догматическому основанию: вере. Он выражает этот общий принцип в отрицательной форме: "все, что не по вере, - грех" (ст. 23б). При этом ударение, переносится вовнутрь. Как и в Гал. (ср. 5:6; 6:15), внешнее - несущественно. "Царство Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе" (14:17). Но по любви к немощным сильные призываются, как и в 1 Кор., ограничивать себя в своей свободе. Это - главная тема отрывка, и последнее обоснование призыва есть ссылка на пример Христов, явленный Им в Его спасительном смирении (15:1-13).
Большой отрывок 15:14-16 гл. есть заключение послания. Как уже отмечалось, в гл. 15 Апостол говорит о своих личных планах: о предстоящем путешествии в Испанию и о своем намерении, на пути в Испанию, посетить, наконец, и Рим. Говорит он и о производимом им сборе в пользу Иерусалимской Церкви, надеясь на духовное участие в этом деле и Римлян. Глава 16 начинается с рекомендации Фивы, по всем данным, подательницы послания, и содержит очень многочисленные приветы, в первую очередь, членам Римской Церкви (стт. 3-16а). Мы судили по тем именам, которые ап. Павел называет, о составе Римской Церкви и пользовались этим материалом для построения гипотезы о ее происхождении. В ст. 16б он посылает привет от всех Церквей Христовых. Возможно, что с ним были в это время те представители Церквей (ср. Деян. 20:4), через которых должен был осуществиться контроль жертвователей над расходованием собранных сумм (ср. 2 Кор. 8: 18-21). Нельзя не отметить, что некоторые из имен стт. 21-23 встречаются и в списке Деян. 20:4. Но члены Коринфской Церкви, Гаий (ср. 1 Кор. 1:14), Ераст и Кварт, упоминаемые в ст. 23, в свиту Апостола, должно быть, не входили. Их упоминание объясняется тем, что ап. Павел писал Римл. в Ахаии. Из указания ст. 22 нужно заключить, что при составлении Римл. секретарем Павла был Тертий. Стт. 17-20, отделяющие общий привет ст. 16б от перечисления тех людей, от которых этот привет, по всей вероятности, исходил, представляют собою отступление. Мы уже имели случай на нем останавливаться. Вполне возможно, что оно вызвано не сведениями, полученными ап. Павлом о Римской Церкви, а горестными переживаниями самого Апостола в Коринфе.
В критических изданиях Римл. обыкновенно кончается пространным славословием, которое в русском переводе стоит в конце гл. 14 (стт. 24-26). Рукописные данные не дают бесспорного основания для установления его места. Переписчику было бы, по-видимому, естественно перенести славословие из гл. 14 в гл. 16, а не наоборот. Он мог бы думать, что исправляет ошибку своих предшественников и восстанавливает мысль Апостола. Нельзя не признать, что в конце гл. 14 славословие оказывается вполне уместным, как молитва Апостола об укреплении немощных. С другой стороны, в построении послания славословие было бы на своем месте и в конце послания и было бы лишним доказательством литературного искусства Тертия, достоинства которого, как секретаря, превозносятся современною критикою. Вопрос остается открытым.








 Оладьи из кабачков в духовке Оладушки из кабачков в духовке
Оладьи из кабачков в духовке Оладушки из кабачков в духовке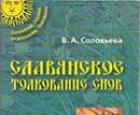 Ремонт в новой квартире во сне
Ремонт в новой квартире во сне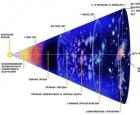 Что было до Большого взрыва?
Что было до Большого взрыва? Пасьянс любит - не любит Любит не любит гадать на картах онлайн
Пасьянс любит - не любит Любит не любит гадать на картах онлайн