Мое восприятие поэзии ахматовой и цветаевой. Феномен женской поэзии серебряного века. А. Ахматова и М. Цветаева
Амедео Модильяни "Анна Ахматова" (1911)
23 июня исполняется 125 лет со дня рождения Анны Ахматовой
Ахматова говорила о себе: «Я – как петербургская тумба». Это значит – вросшая в землю этого города, слившаяся с ним. Действительно, царственный образ Ахматовой нельзя представить себе в отрыве от образа Петербурга-Петрограда-Ленинграда. И все-таки большое место в ее жизни занимала и Москва. В частности, здесь состоялась ее единственная встреча с Мариной Цветаевой.
Фото: Olga Della-Vos-Kardovskaya

Это на портретах в школьных кабинетах литературы Пушкин висит с Лермонтовым голова к голове, Толстой мирно соседствует с Достоевским. В реальности многие классики, чьи имена произносятся через запятую, никогда не встречались. Лермонтов не успел увидеть своего кумира Пушкина воочию, а Достоевский и Толстой, не любившие друг друга, встретиться ни разу не захотели. Вполне могли разминуться во времени и две крупнейших женщины-поэта (обе не любили слово «поэтесса») ХХ века.

Марина Цветаева
Цветаева и Ахматова испытывали друг к другу интерес, но со стороны Марины Ивановны он был явно сильнее. Цветаева полюбила стихи Ахматовой еще в 1912 году, прочитав сборник «Вечер». Посвящала ей стихи (цикл «К Ахматовой» 1916 года), забрасывала ее эмоциональными посланиями, а та отвечала сдержанно, ссылаясь на «аграфию» - утрату способности к письму. До 1922 года так и не успели встретиться (все-таки одна в Москве, другая – в северной столице), а потом Цветаева уехала в эмиграцию и на родину вернулась лишь через 17 лет, в 1939 году.
Осенью 1940 года Цветаева прочла новый сборник Ахматовой «Из шести книг» и оказалась поражена, не почувствовав никакого роста любимой поэтессы, никакой духовной эволюции: «старо, слабо. Часто (плохая и верная примета) совсем слабые концы, сходящие (и сводящие) на нет... (…) Но что она делала: с 1914 г. по 1940 г.? Внутри себя, Эта книга и есть «непоправимо-белая страница»...» Цветаевой показалось, что ее былая любовь к поэзии Ахматовой была ошибкой, наваждением: «Просто был 1916 год, а у меня было безмерное сердце, и была Александровская слобода, и была малина и была книжка Ахматовой... Была сначала любовь, потом - стихи…» Странно, что Цветаева не догадалась, что в условиях советской цензуры поэт может печатать далеко не все, что хотел бы…

Поэты Николай Степанович Гумилев (слева), Анна Андреевна Ахматова (справа) и их сын Лев
«Страшно подумать, как бы описала эти встречи сама Марина, если бы она осталась жива, а я бы умерла 31 августа 41 г. Это была бы «благоуханная легенда», как говорили наши деды. Может быть, это было бы причитание по 25-летней любви, которая оказалась напрасной, но во всяком случае это было бы великолепно», - писала Ахматова в 1959 году. Об их единственной встрече, продолжавшейся два дня – 7 и 8 июня 1941 года – известно очень мало. Цветаева ничего рассказать об этом не успела. Ахматова тоже особенно не распространялась. Подробности остались только в воспоминаниях знакомых и квартирных хозяев.
В начале июня 1941 года Ахматова приехала в Москву, хлопотать за своего арестованного сына, Льва Гумилева. Остановилась, как всегда, у своего друга Виктора Ардова, на Большой Ордынке, 17, кв. 13, в маленькой комнатке на втором этаже, прозванной «шкафом». Узнав, что Цветаева хочет ее видеть, поэтесса позвонила и сказала два слова: «Говорит Ахматова». «Я вас слушаю», - спокойно ответила Цветаева. Ахматова пригласила ее на Ордынку. Разговор прошел наедине. «О самой встрече Ахматова сказала только: «Она приехала и сидела семь часов». Так говорят о незваном и неинтересном госте», - вспоминала Лидия Чуковская. Содержание беседы навеки осталось тайной. Писательница Ольга Новикова в повести «Безумствую любя» (2005) предприняла попытку художественно домыслить его. Ахматова спросила, есть ли у Цветаевой известия о судьбе арестованных мужа и дочери, и Цветаева сразу стала рассказывать, как посылает передачи Сергею и Ариадне.

«Анна встала с дивана, подошла к Марине, со спины обхватила за плечи, подняла ее, послушную, и повлекла за собой.
В узкой маленькой каморке с высоким потолком они, не заметив, просидели несколько часов. Анна с поджатыми ногами на кровати, Марина - на стоящем впритык стуле.
Близость...
В такой тесноте либо искрит - тогда двое отлетают друг от друга в разные стороны, - либо притягивает.
Сначала обе молчали. Застыли возле океана тишины - тихого океана, - и каждая опасалась ступить в него босой, оголенной душой: вдруг обожжет...
Первый шаг сделала Анна…».
Фото: Еврейский музей и центр толерантности

Ахматова, по версии Ольги Новиковой, прочитала вслух посвященное ей стихотворение Цветаевой 1916 года «О, Муза плача, прекраснейшая из муз!..», Цветаева потом – свою «Поэму воздуха», а Ахматова – вторую главу своей «Поэмы без героя».
Цветаева – это уже не фантазия, а свидетельство Ахматовой из ее дневниковых воспоминаний 1959 года – язвительно отозвалась: « Надо обладать большой смелостью, чтобы в 41 году писать об Арлекинах, Коломбинах и Пьеро». Образы показались ей несвоевременными, пришедшими из рафинированной культуры Серебряного века. Но и Ахматовой не понравилась «Поэма воздуха» . В дневниковой записи 1959 года она отзывается о ней так: « Марина ушла в заумь… Ей стало тесно в рамках Поэзии… Ей было мало одной стихии, и она удалилась в другую или в другие». «В поэме Ахматовой Цветаева не вычитала трагичности времени, трагичности бега времени. В поэме Цветаевой Ахматова не восприняла трагичности бытия поэта в мире. Так произошла эта невстреча, - в быту. А в бытии - столкновение двух начал: аполлонического и дионисийского…», - пишет биограф Цветаевой Анна Саакянц.
На следующий день великие женщины встретились снова, но уже не у Ардова, а в Александровском переулке, д. 43, кв. 4, у друга Ахматовой Николая Харджиева. Хозяин потом вспоминал:
« Цветаева говорила почти беспрерывно. Она часто вставала со стула и умудрилась легко и свободно ходить по моей восьмиметровой комнатенке. Меня удивлял ее голос: смесь гордости и горечи, своеволия и нетерпимости. Слова «падали» стремительно и беспощадно, как нож гильотины. Она говорила о Пастернаке, с которым не встречалась полтора года (…), снова о Хлебникове (…), о западноевропейских фильмах (…). Говорила о живописи, восхищалась замечательной «Книгой о художниках» Кареля ван Мандера (1604), изданной в русском переводе в 1940 году.
Эту книгу советую прочесть всем, - почти строго сказала Марина Ивановна.
Анна Андреевна была молчалива. Я подумал: до чего чужды они друг другу, чужды и несовместимы. Когда Цветаева, сопровождаемая Т.Грицем, ушла, Ахматова сказала: - В сравнении с ней я телка».
Что она имела в виду? Может, свою внешнюю безмятежность, спокойствие, величавость, особенно заметные на фоне экзальтированной и эмоциональной Цветаевой?
Еще известно, что в один из этих дней Ахматова и Цветаева вместе сходили в театр. «Человек, стоявший против двери (но, как всегда, спиной), медленно пошел за нами, - вспоминала Ахматова в 1963 году. – Я подумала: «За мной или за ней?»».
Цветаева так и не узнала, что Ахматова еще 16 марта 1940 года написала стихотворение «Поздний ответ».
Невидимка, двойник, пересмешник.
Что ты прячешься в черных кустах.
То забьешься в дырявый скворечник,
То мелькнешь на погибших крестах.
То кричишь из Маринкиной башни:
«Я сегодня вернулась домой.
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной.
Поглотила любимых пучина,
И разрушен родительский дом».
Мы с тобою сегодня, Марина,
По столице полночной идем,
А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет,
А вокруг погребальные звоны,
Да московские дикие стоны
Вьюги, наш заметающей след.
Анна Андреевна не прочла ей его при встрече. « А теперь жалею, - говорила она в 1956 году Лидии Чуковской.- Она столько стихов посвятила мне. Это был бы ответ, хоть и через десятилетия. Но я не решилась из-за страшной строки о любимых». Действительно, строка «поглотила любимых пучина» только обострила бы у Цветаевой боль и страх за ее арестованных близких.
Через две недели после встречи Ахматовой и Цветаевой началась Великая Отечественная война. А через два с небольшим месяца Цветаева покончила с собой в эвакуации. Ахматова пережила ее на 25 лет. В поздние годы она вспоминала о ней мало и равнодушно и не раскаивалась в своей холодности при встрече. Но в стихотворении 1961 года Цветаева входит в своеобразный квартет великих поэтов, который образуют Мандельштам, Пастернак и она сама:
Все мы немного у жизни в гостях,
Жить - этот только привычка.
Чудится мне на воздушных путях
Двух? А еще у восточной стены,
В зарослях крепкой малины,
Темная, свежая ветвь бузины…
Это - письмо от Марины.
А. Ахматова и М. Цветаева - два поэтических голоса своей эпохи
Не отстать тебе. Я - острожник.
Ты конвойный. Судьба одна.
И одна в пустоте подорожней
Подорожная нам дана.
М. Цветаева «Ахматовой»
Анна Ахматова и Марина Цветаева - два ярких имени в русской поэзии. Им довелось не только жить в одно и то же время - время крушения старого мира, но и быть поэтическим голосом своей сложной эпохи.
Обе поэтессы начали рано писать стихи. Марина - в шесть лет, а Анна - в одиннадцать, но каждой из них выпала своя трагическая судьба, каждая искала в поэзии свой собственный путь. Цветаева познакомилась с творчеством Ахматовой в 1915 году и сразу же написала стихотворение, обращенное к ней. Цветаева долгое время сохраняла к Ахматовой восторженное отношение, о чем свидетельствуют письма и дневники Марины Ивановны. Она посвятила Анне Андреевне небольшой цикл стихов, в котором выразила свое преклонение перед ней:
И я дарю тебе свой колокольный град,
Ахматова! - и сердце свое в придачу.
Цветаева обращается к Ахматовой на «ты», хотя между ними не было личного общения, и горделиво утверждает:
Мы коронованы тем, что одну с тобой
Мы землю топчем, что небо над нами - то же!
Этим «мы» Цветаева старается показать, что она тоже обладает поэтическим даром и стоит рядом с прославленной поэтессой.
Ахматова благосклонно принимала поклонение Цветаевой, но никогда особенно не ценила ее творчество. Цветаева же в конце жизни резко изменила свое отношение к Ахматовой, заявив, что все, написанное ею, особенно в последние годы, очень слабо.
Единственная встреча двух поэтесс состоялась в Москве в июне 1941 года и, нужно думать, не привела к взаимопониманию - слишком уж различны по своим творческим устремлениям и характеру были эти женщины. Действительно, Марина Цветаева считала, что поэт должен быть погружен в себя и отстранен от реальной жизни. По собственному определению, она была «чистым лириком» и поэтому самодостаточна и эгоцентрична. Несмотря на это, эгоцентризм Цветаевой не был эгоизмом, он выражался в непохожести поэтессы на других, нетворческих людей. Именно поэтому мы часто встречаем в стихотворениях Цветаевой противопоставление «я» и «они»:
Ахматова же, на первый взгляд, была более приближена к реальной жизни. Встав в начале творческого пути под знамя акмеизма, она стремилась в своих стихах к предметной детализации. Все звучащие и красочные подробности входили в ее стихи, наполняя их живой силой жизни:
Жарко веет ветер душный,
Солнце руки обожгло.
Надо мною свод воздушный,
Словно синее стекло.
Ахматовский стих произрастал из непосредственных жизненных впечатлений, хотя эти впечатления и ограничивались, особенно в раннем творчестве, заботами и интересами «своего круга».
И Ахматова, и Цветаева много писали о любви. Любовь в их творчестве предстает чувством драматическим, а порой и трагическим:
Брошена! Придуманное слово –
Разве я цветок или письмо?
А глаза уже глядят сурово
В потемневшее трюмо.
У Ахматовой стихи о любви - это маленькие рассказы, не имеющие ни начала, ни конца, но все же сюжетные, как, например, «Вечером», «Сжала руки под темной вуалью…» и другие. Удивительное мастерство позволяло поэтессе с помощью одной, казалось бы, незначительной детали создать определенное настроение и передать чувства героини:
Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.
Вот она - незначительная деталь - неправильно надетая перчатка - и перед нами нарисован образ растерянной и подавленной женщины. Мы понимаем, что ее бросил любимый, и жизнь для нее вот-вот рухнет.
У Цветаевой сюжетности в любовных стихах практически нет, но она тоже пишет о любви не в момент счастья, а в напряженный, драматический момент:
Хоть на алтын полюби - приму!
Друг равнодушный! - так странно слушать
Черную полночь в чужом дому!
Ахматова долгое время считалась поэтом одной темы - любовной, за что ее неоднократно упрекали. К теме России она начинает чаще обращаться уже в позднем творчестве, но эта тема, в сущности, является все той же темой любви - любви к своей стране.
Цветаева несколько лет прожила в эмиграции. Ахматова никогда не уезжала надолго. Однако обе поэтессы не принимали и не понимали революцию. Ахматова стремилась в своих стихах уйти от политики в мир человеческих чувств и отношений, а Цветаева обращалась к далекому прошлому, которое она идеализировала и романтизировала. В ее творчестве слышится тоска по героическим натурам, по идеалам рыцарства, поэтому частыми образами ее произведений становятся меч, плащ и шпага. На страницах ее стихотворений мы встречаемся с яркими личностями прошлого: Казановой, Дон Жуаном, Наполеоном, Лжедмитрием и, конечно, прекрасной Мариной Мнишек. Кроме того, что Мнишек была полячкой (а Цветаева тоже имела частичку польской крови), она, безусловно, привлекала Цветаеву еще и тем, что носила ее имя. Поэтесса очень любила свое имя и видела в нем особый смысл. Как известно, Марина - это перевод на латинский язык одного из эпитетов богини любви и красоты Афродиты. «Пелагос» (по-латыни - «Марина») означает «морская». Цветаева неоднократно раскрывала в стихах поэтический смысл своего имени, и в нем тоже видела свою непохожесть на других:
Кто создан из камня, кто создан из глины, -
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело - измена, мне имя Марина,
Я - бренная пена морская.
Море для Цветаевой - это символ творчества. Оно такое же глубокое и неисчерпаемое. Значит, человек, носящий имя Марина, - особый человек, художник.
Ахматова также любила свое имя и считала себя достойной особого предназначения. Она видела в нем некую божественность и царственность:
В то время я гостила на земле.
Мне дали имя при крещенье - Анна,
Сладчайшее для губ людских и слуха.
Один из своих сборников Ахматова даже назвала «Anno domini». Латинское выражение, означающее «в лето господне», явно привлекало поэтессу созвучностью с ее именем Анна.
И Ахматова, и Цветаева немало обогатили русскую поэзию. Ахматова продолжала и развивала традиции русской психологической прозы, являясь в этом смысле прямым наследником Достоевского, Толстого, Гаршина. Главным достоинством ее стиха была строго обдуманная локализованная деталь, несущая порой весь замысел. Достаточно вспомнить образ красного тюльпана в стихотворении «Не любишь, не хочешь смотреть…» Ахматова, умея очень тонко пользоваться словом, ввела в поэзию детали из обыденного мира, бытовые интерьеры, прозаизмы, которые помогали ей создавать образы, а главное - открывали внутреннюю связь между внешней средой и потаенной жизнью сердца.
Сила стихов Цветаевой не в зрительных образах, а в завораживающем потоке все время меняющихся, глубоких ритмов. То торжественно-приподнятые, то разговорно-бытовые, то песенно-распевные, то иронически-насмешливые, они в своем богатстве передают гибкость ее интонационного строя, находятся в зависимости от ритма ее переживаний. И если Ахматова тонко чувствует русское слово, то Цветаева идет еще глубже - она способна воспринимать язык на уровне морфемы. Классическим примером в этом отношении может служить стихотворение, посвященное Борису Пастернаку:
Рас-стояния: версты, мили…
Нас рас-ставили, рас-садили.
Приставка «рас» в этом стихотворении имеет особое значение. Именно умелое использование ее помогает поэтессе передать чувство разлуки, разъединенности.
Ахматова и Цветаева - самобытные поэтессы и очень разные, но между ними немало внутреннего сходства. Они обе были именно русскими поэтессами и безгранично любили Россию. В их творчестве и судьбе отразился сложный путь русской интеллигенции, которой пришлось жить в эпоху революционных бурь и глобальных перемен.
Анна Ахматова
Я научила женщин говорить
Марина Цветаева
Живу до тошноты
© Мнухин Л. А.
© ФГУП «МИА “Россия сегодня”»
© ООО «Издательство АСТ»
Анна Ахматова
Я научила женщин говорить
Предисловие
«Тут я подумала: один безумный поэт – хорошо, два – плохо»
Цветаева и Ахматова – такие разные и такие похожие.
По возрасту – Ахматова старше всего на три года: она родилась в 1889 году, а Цветаева – в 1892-м. По неординарности – им обоим нет равных. По биографии – пережили с родиной самые страшные годы Гражданской войны, Революции, Великой Отечественной (правда, Цветаева, «захватила» только два месяца). По женской судьбе – были любимыми, были брошенными, сами влюблялись и бросали, пережили тюрьму и расстрел любимых мужчин, рожали и теряли. По характеру – железные и нежные, страстные и холодные, ранимые и жесткие. По уму – мудрые и эрудированные. По кругу общения – их окружали все «звезды» отечественной литературы начала и середины XX века: Николай Гумилев, Корней и Лидия Чуковские, Сергей Есенин, Александр Блок, Борис Пастернак, Осип Мандельштам, Михаил Булгаков, Фаина Раневская, Иосиф Бродский. По признанию – гонимые и шельмованные «родной» советской властью, но вознесенные до небес настоящими ценителями искусства во всем мире. По жизни же – несчастные и трагичные вечные скиталицы, равнодушные к вещам и суете. Разница только – в датах смерти: Ахматова пережила Цветаеву почти на тридцать лет.
А как они сами относились друг к другу? По свидетельствам современников, 23-летняя Цветаева была в восторге от поэзии Ахматовой: в стихах и письмах она признавалась ей в самой настоящей любви! Анну Андреевну это очень смущало, но, как рассказывал Осип Мандельштам, Ахматова в 1916–1917 годах не расставалась с рукописными стихами Цветаевой и «до того доносила их в сумочке, что одни складки и трещины остались». Вот какие строки, датированные 11 февраля 1915 года, посвятила Цветаева Анне Андреевне:
«Узкий, нерусский стан -
Над фолиантами.
Шаль из турецких стран
Пала, как мантия.
Вас передашь одной
Ломаной линией.
Холод – в весельи, зной -
В Вашем унынии.
Вся Ваша жизнь – озноб.
И завершится – чем она?
Облачный темный лоб
Юного демона.
Каждого из земных
Вам заиграть – безделица.
И безоружный стих
В сердце нам целится.
В утренний сонный час,
Кажется, четверть пятого,
Я полюбила Вас,
Анна Ахматова».
«Все о себе, все о любви», – писала Цветаева в своих записных книжках, датированных 1917 годом, рассуждая об ахматовской поэзии. – Да, о себе, о любви – и еще – изумительно – о серебряном голосе оленя, о неярких просторах Рязанской губернии, о смуглых главах Херсонесского храма, о красном кленовом листе, заложенном на Песни Песней, о воздухе, «подарке Божьем»… и так без конца… И есть у нее одно 8-стишие о юном Пушкине, которое покрывает все изыскания всех его биографов.
Ахматова пишет о себе – о вечном. И Ахматова, не написав ни одной отвлеченно-общественной строчки, глубже всего – через описание пера на шляпе – передаст потомкам свой век… О маленькой книжке Ахматовой можно написать десять томов. И ничего не прибавишь… Какой трудный и соблазнительный подарок поэтов – Анна Ахматова!»
С восторгом и страстью обращалась Цветаева к Ахматовой и в своих письмах: «Дорогая Анна Андреевна! Так много нужно сказать – и так мало времени!.. ничего не ценю и ничего не храню, а Ваши книжечки в гроб возьму – под подушку!.. Ах, как я Вас люблю, и как я Вам радуюсь, и как мне больно за Вас, и высОко от Вас!.. Вы мой самый любимый поэт, я когда-то – давным-давно – лет шесть тому назад – видела Вас во сне, – Вашу будущую книгу: темно-зеленую, сафьяновую, с серебром – «Словеса злотые», – какое-то древнее колдовство, вроде молитвы (вернее – обратное!) – и – проснувшись – я знала, что Вы ее напишете… Я понимаю каждое Ваше слово: весь полет, всю тяжесть. «И шпор твоих легонький звон», – это нежнее всего, что сказано о любви… Я ненасытна на Вашу душу и буквы… М.Ц. Москва, 26-го русского апреля 1921».
Много стихов посвятила Цветаева Ахматовой, а Анна Андреевна – лишь одно, и то через много лет:
«Поздний ответ
Белорученька моя, Чернокнижница…
Невидимка, двойник, пересмешник…
Что ты прячешься в черных кустах? -
То забьешься в дырявый скворешник,
То мелькнешь на погибших крестах,
То кричишь из Маринкиной башни:
«Я сегодня вернулась домой,
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной.
Поглотила любимых пучина
И разграблен родительский дом».
Мы сегодня с тобою, Марина,
По столице полночной идем.
А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет…
А вокруг погребальные звоны
Да московские хриплые стоны
Вьюги, наш заметающей след.
«Ей я не решилась прочесть, – призналась в свое время Анна Андреевна писательнице Лидии Чуковской. – А теперь жалею. Она столько стихов посвятила мне. Это был бы ответ, хоть и через десятилетия. Но я не решилась из-за страшной строки о любимых».
А Цветаева забрасывала своего кумира стихами, письмами, подарками. В одном из писем она, к примеру, восхищалась только что прочитанной ею ахматовской «Колыбельной» – «Далеко в лесу огромном…» – и утверждала, что за одну строчку этого стихотворения – «Я дурная мать» – готова отдать все, что до сих пор написала и еще когда-нибудь напишет. Хотя уже в то время ее собственные стихи о Москве или к Блоку многие считали необыкновенно талантливыми. Но Ахматова их не ценила. Более того, отзывалась о Марине Ивановне холодновато, отделывалась вежливыми, уклончивыми ответами и замечаниями. К примеру, ей не очень нравились так называемые «анжамбеманы», которыми Цветаева злоупотребляла с каждым годом все сильнее, то есть о переносе логического содержания строки в начало строки следующей. «Это можно сделать раз, два, – соглашалась Ахматова, – но у нее ведь это повсюду, и прием этот теряет всю свою силу».
Когда ее просили оценить творчество Цветаевой, она сдержанно отвечала: «У нас теперь ею увлекаются, очень ее любят, даже больше, чем Пастернака». Но лично от себя ничего не добавляла.
Но ее современники объяснили безразличие Ахматовой к стихам Цветаевой не только их словесным, формальным складом. «Не по душе ей было, вероятно, другое, – предполагал Георгий Адамович, – демонстративная, вызывающая, почти назойливая «поэтичность» цветаевской поэзии, внутренняя бальмонтовщина при резких внешних отличиях от Бальмонта, неустранимая поза при несомненной искренности, постоянный «заскок». Если это так, то не одну Ахматову это отстраняло и не для нее одной это делало не вполне приемлемым творчество Цветаевой, человека, редкостно даровитого и редкостно несчастного».
* * *Впервые поэтессы встретились только в 1941 году – до самоубийства Марины Ивановны оставалось всего два месяца. Тогда на нее много ужасного навалилось: муж и дочь в тюрьме, она повязана НКВД, жить не на что, кроме того, она апокалиптично относилась к начавшейся войне с Германией. И слегла от душевных мук. И когда ее в Елабуге навестил Борис Пастернак, она попросила его увидеться с Ахматовой. «Борис Леонидович оставил здесь у Нины телефон и просил, чтобы я непременно позвонила, – вспоминала Анна Андреевна. – Я позвонила. Она подошла.
– Говорит Ахматова.
– Я вас слушаю.
(Да, да, вот так: она меня слушает.)
– Мне передал Борис Леонидович, что вы желаете меня видеть. Где же нам лучше увидеться: у вас или у меня?
– Думаю, у вас.
– Тогда я сейчас позову кого-нибудь нормального, кто бы объяснил вам, как ко мне ехать.
– Пожалуйста. Только нужен такой нормальный, который умел бы объяснять ненормальным.
Тут я подумала: один безумный поэт – хорошо, два – плохо.
Она приехала и сидела семь часов. Ардовы тогда были богатые и прислали ко мне в комнату целую телячью ногу.
На следующий день звонок: опять хочу вас видеть. А я собиралась к Николаю Ивановичу, в Марьину рощу. Я дала ей тот телефон. Вечером она позвонила; говорит: не могу ехать на такси, на метро, на троллейбусе, на автобусе – только на трамвае. (Она боялась уличных машин, в метро – эскалаторов, в домах – лифтов, казалась близорукой и незащищенной от мира. – Ред.)
Тэдди Гриц ей все подробно объяснил и вышел ее встретить. Мы пили вино вчетвером. Тэдди сказал, что у дома торчит человек. Я подумала: какая же у нее счастливая жизнь! А, может быть, это у меня? А может быть, у нас обеих?»
«С этим рассказом о встречах с Цветаевой интересно сопоставить запись, сделанную Анной Андреевной в 1962 года, – писала Лидия Корнеева. – «Наша первая и последняя двухдневная встреча произошла в июне 1941 г. на Большой Ордынке, 17, в квартире Ардовых (день первый) и в Марьиной роще у Н. И. Харджиева (день второй и последний). Страшно подумать, как бы описала эти встречи сама Марина, если бы она осталась жива, а я бы умерла 31 августа 41 г. Это была бы «благоуханная легенда», как говорили наши деды. Может быть, это было бы причитание по 25-летней любви, которая оказалась напрасной, но во всяком случае это было бы великолепно. Сейчас, когда она вернулась в свою Москву такой королевой и уже навсегда… мне хочется просто “без легенды” вспомнить эти Два дня».
Наверное в далеком будущем и для нашей эпохи отыщется изящный синтез. Притупятся противоречия, затушуются контрасты, пестрота сведется к единству, и из разноголосицы получится «согласный хор». Будущий ученый, очарованный гармонией, блестяще покажет «единый стиль» нашего времени. Но как жалко нашей нестройности, нашего живого разнообразия, даже нашей нелепости. И никакая «идея» не примирит нас с превращением в маски тех лиц, которые мы знали и любили.
Сложность и противоречивость – черты нашей эпохи – будем хранить их бережно. Нам ценно сейчас не общее, соединяющее наших поэтов в группы и школы, не элементы сходства – всегда внешние и бессодержательные. Частное, личное, ни на что не сводимое, разъединяющее – вот что интересует нас.
Марина Цветаева: путь в петлю
У меня в Москве – купола горят!
У меня в Москве – колокола звонят!
И гробницы в ряд у меня стоят,
В них царицы спят, и цари.
Вот склад народной песни с обычным для нее повторениями и параллелизмом; Напев с «раскачиванием» – задор молодецкий. Ахматова – петербурженка; ее любовь к родному городу просветлена воздушной скорбью. И влагает она ее в холодные, классические строки.
Но ни на что не променяю пышный
Гранитный город славы и беды.
Цветаева всегда в движении; в ее ритмах – учащенное дыхание от быстрого бега. Она как будто рассказывает о чем-то второпях, запыхавшись и размахивая руками. Кончит – и умчится дальше. Она – непоседа. Ахматова – говорит медленно, очень тихим голосом: полулежит неподвижна; зябкие руки прячет под свою «ложно-классическую» (по выражению Мандельштама) шаль. Только в едва заметной интонации проскальзывает сдержанное чувство. Она – аристократична в своих усталых позах. Цветаева – вихрь, Ахматова – тишина. Лица первой и не разглядишь – так оно подвижно, так разнообразна его мимика. У второй – чистая линия застывшего профиля. Цветаева вся в действии – Ахматова в созерцании,
одна едва улыбается,
там где другая грохочет смехом.
Лирика Ахматовой насквозь элегична – страдальческая любовь, «душная тоска», муки нелюбимой или разлюбленной, томление невесты по мертвому жениху; фон ее – четыре стены постылой комнаты; мучительный недуг, приковывающий к постели. За окном метель – и она одна в надвигающихся сумерках. Поэзия Цветаевой пышет здоровьем, налита знойной молодой кровью, солнечна, чувственна. В ней исступление, ликование, хмель.
Кровь, что поет волком,
Кровь – свирепый дракон,
Кровь, что кровь с молоком
В кровь целует – силком.
Первая – побежденная, покорная, стыдливая, вторая – «царь-девица», мужественная, воинственная, жадная, и в любви своей настойчивая и властная. Цепки ее пальцы, крепки объятия: что схватит – не выпустит. Весь мир – ее; и все радости его перебирает она, как жемчужины на ладони – сладострастно и бережно. Мало ей и земель, и морей, и трав, и зорь. Все ищет, все бродит по степям, да по «окиану»: глаза зоркие, сердце ненасытное.
Ахматова восходит по ступеням посвящения: от любви темной к любви небесной. Истончилось лицо ее, как иконописный лик, а тело «брошено», преодолено, забыто. Прошлое лишь во снах тревожит, вся она в молитве, и живет в «белой светлице», в «келье». Цветаева – приросла к земле; припала к ней, пахучей и теплой, и оторваться не может. Она – ликующая, цветущая плоть. Что ей до Вечности, когда земная жажда ее не утолена и неутолима.
Пью, не напьюсь. Вздох – и огромный выдох
И крови ропщущей подземный гул.
Одна уже в царстве теней: другая еще не постигает возможности смерти.
Я вечности не приемлю
Зачем меня погребли?
Я так не хотела в землю
С любимой моей земли.
Она любит благолепие церкви, торжественность обряда, сладость молитвы. Она богомольна, но не религиозна. Как различно выражается у Ахматовой и у Цветаевой любовь к России! Первая возвышается до истинного пафоса, становится молельщицей за несчастную «темную» родину. Она отрекается от всего личного, отгоняет от себя последние «тени песен и страстей», для нее родина в духе и она молится
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.
У другой – не скорбь души, а страшный вопль терзаемого тела. Что ей до того, что убитые станут «божьего воинства новыми воинами» – все они ее сыновья, ее плоть. Она загораживает их собой, как мать своих детей, и диким звериным голосом воет над их трупами.
Это причитание – быть может самое сильное, из всего написанного Цветаевой:
И справа и слева
Кровавы зевы.
И каждая рана:
– Мама
И только и это
И внятно мне, пьяной,
Из чрева – и в чрево:
– Мама!
Все рядком лежат,
– Не развесть межой.
Поглядеть: солдат!
Где свой, где чужой?
……………………
Без воли – без гнева –
Протяжно – упрямо –
До самого неба:
– Мама!
Искусство Ахматовой – благородно и закончено. Ее стихи совершенны в своей Простоте и тончайшем изяществе. Поэт одарен изумительным чувством меры и безукоризненным вкусом. Никаких скитаний и метаний, почти никаких заблуждений. Ахматова сразу выходит на широкий путь (уже в первом ее сборнике «Вечер» есть шедевры) и идет по нему с уверенной непринужденностью. Цветаева, напротив, все еще не может отыскать себя. От дилетантских, институтских стихов в «вечерний альбом» (заглавие первого ее сборника) она переходит к трогательным мелочам «Волшебного Фонаря», мечется между Брюсовым и Блоком , не избегает влияния А. Белого и Маяковского , впадает в крайности народного жанра и частушечного стиля. У нее много темперамента, но вкус ее сомнителен, а чувства меры нет совсем. Стихи ее неровны, порой сумбурны и почти всегда растянуты. Последняя ее поэма: «Царь-девица» погибает от многословья. И все же это произведение – примечательное и голос ее не забывается.








 Оладьи из кабачков в духовке Оладушки из кабачков в духовке
Оладьи из кабачков в духовке Оладушки из кабачков в духовке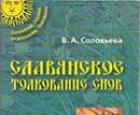 Ремонт в новой квартире во сне
Ремонт в новой квартире во сне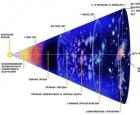 Что было до Большого взрыва?
Что было до Большого взрыва? Пасьянс любит - не любит Любит не любит гадать на картах онлайн
Пасьянс любит - не любит Любит не любит гадать на картах онлайн